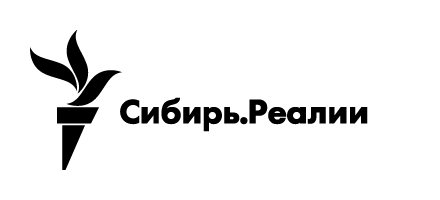В России заявили об отсутствии отечественных подшипников для самолётов. "Наши болевые точки известны. Первое — это подшипники. Отечественные подшипники даже близко не соответствуют тем, которые действительно нужны промышленности. Второе – электронная компонентная база", – заявил гендиректор АО "Аэрокомпозит" Анатолий Гайданский на форуме "Иннопром". Ранее полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что работа над проектом российского легкого самолета ЛМС-901 "Байкал", призванного заменить устаревший Ан-2, зашла в тупик. По его словам, появления ЛМС-901 в ближайшее время ждать не стоит. "Байкал" должен был оснащаться комплектующими российского производства. Первые три опытных образца были оснащены двигателями из США, но в 2022-м иностранные партнеры вышли из проекта. Самолет "Байкал" – одно из начинаний российских властей в рамках так называемого "импортозамещения" и преодоления технологической зависимости от западных стран. Эксперты говорят, что такая концепция фактически не имеет смысла.
"Самолет, вроде, и нужен, но шансов у него нет"
В сентябре 2024 года Владимир Путин поручил ускорить работу над российским самолетом "Байкал". Разрабатывать проект начали в 2019 году, а в 2025-м планировалось запустить производство и начать поставки. Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что срок реализации проекта сдвигается на 2026 год, поскольку при сборке самолета необходимо использовать российские комплектующие: двигатель ВК-800 и винт. Изначально разработчики планировали использовать иностранные детали.
В мае 2025 года Юрий Трутнев заявил, что работа над "Байкалом" зашла в тупик, а единственный вариант восполнить нехватку легкой авиации – ремоторизация Ан-2. В Минпромторге при этом заявили, что работа над проектом по-прежнему ведется. В 2019 году один самолет "Байкал" должен был стоить 120 млрд рублей. Сейчас его стоимость оценивается в 340 млрд.
– До сих пор ни одна российская попытка заменить Ан-2 не увенчалась успехом, – говорит авиационный эксперт и журналист Андрей Меньшенин. – Проблемы каждый раз возникают на этапе перехода от слов к делу. На словах, такой самолёт очень нужен для обеспечения малых поселений вдали от основной транспортной сети. В СССР это были субсидированные государством перевозки силами местных лётных отрядом. После 1991-го большинство этих лётных отрядов кануло в лету. Те региональных авиакомпании, которые сейчас могли бы использовать этот тип воздушного судна, попросту не могут его купить. Да и самих авиакомпаний почти не осталось. Получается парадоксальная ситуация: самолёт, вроде бы, нужен, но при этом у него нет шансов стать массовым на внутреннем рынке. Как коммерческий проект он нежизнеспособен. А раз нет заказчиков, то каждая попытка останавливается на этапе прототипа.
С началом войны в Украине авиационная отрасль пострадала одной из первых, поскольку западные производители остановили поставки комплектующих и техническое обслуживание. В 2023 году СМИ сообщили о решении правительства узаконить каннибализацию самолетов: разбор одних бортов на запчасти для ремонта других. Российские власти скорректировали планы по импортозамещению в авиации: если в 2022 году планировалось довести долю самолетов отечественного производства до 33%, а к 2030 году - до 80%.
При этом в 2024 году на самолеты, выпущенные в России, приходилось лишь 5% пассажирооборота и 33% коммерческих перевозок. В 2023 году российские компании купили всего два борта, сделанных в России, а в 2024 году – ни одного. Минпромторг и Ростех заявили, что испытание моделей МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114 переносятся на 2025-2026 годы. В апреле 2025 года сообщалось, что три самолета SJ-100 с российскими двигателями и другими системами прошли испытания.
По словам Андрея Меньшенина, теоретически российские разработчики способны создать модель на основе отечественных комплектующих, однако их себестоимость может оказаться слишком высокой для российского рынка.
– В самолёте много критически важных комплектующих, – говорит эксперт. – Замена даже 99 из 100 всё ещё не позволит использовать самолёт согласно современным стандартам безопасности. Хорошо, что смогли импортозаместить ещё один компонент, но здесь нужно учитывать, сколько осталось. "Удастся ли создать самолет, не зависящий от иностранных поставок?" - это из разряда гаданий. Зависит от того, насколько быстро удастся импортозаместить оставшиеся компоненты. Теоретически, должно хватить компетенций. Имеет ли вообще весь этот процесс практический смысл? Для коммерческого проекта одним из важных условий является его себестоимость. Как выяснилось со временем, гораздо дешевле выходит действовать в кооперации с другими специалистами, чем пытаться выполнить такую сложную задачу, как строительство воздушного судна, в одиночку. Поэтому самые успешные авиакорпорации делегируют множество задач другим компаниям, зачастую - в других странах и на других континентах. Практической значимости импортозамещение не имеет, и является вынужденным шагом для подсанкционной стороны. Все это делает коммерческий проект дороже, а значит - менее конкурентным.
"В некоторых сферах успехи очень скромные"
Российские власти занялись импортозамещением в 2014 году после аннексии Крыма и последующих санкций. На фоне полномасштабного вторжения в Украину руководство страны заявило о необходимости импортозаместить высокотехнологичные сферы: самолетостроение, автомобилестроение, электронику и IT.
Данные об успехах противоречивы. С одной стороны, в стране действительно есть появляютсяпродукты, сделанные в России: например, цифровой магазин приложений RuStore, производство автомобилей "Москвич-3" на бывшем заводе Renualt, производство лекарств "Велфарм-М" в Москве. Корпорация "Роснефть" регулярно отчитывается о разработке собственных программных компонентов, независящих от западных партнеров.
Негативных сигналов, однако, не меньше: владелец "Северстали" Алексей Мордашов рассказал, что его компания не смогла найти в России аналог немецкой системе SAP для управления бизнес-процессами. Гендиректор компании-поставщика средств связи для ФСО, ФСБ и Минобороны "Супертел" Константин Лукин заявил, что за три года войны "ни фига не сделано" для импортозамещения телекоммуникационных компонентов в оборонной промышленности.
– Я бы сказал, что в России были некоторые успехи импортозамещения, но на частном уровне, – говорит экономист Владислав Иноземцев. – Когда в 2022 году нарушились связи с западными поставщиками, многие производители подсуетились и стали делать, например, запчасти. Конечно, они были без прежней гарантии, но они работали. Это дало результат, успехи очевидны. Заместили часть продукции, но в целом это касалось не конечного товара, а в большей степени – обслуживания. Если говорить о сфере IT – банковской сфере, платежных системах и так далее – то там все очень хорошо. Есть неплохие программисты, которые на основе базовых западных продуктов находят хорошие технологические решения. Однако есть еще одна категория товаров: те, которые раньше в России вообще не выпускались. И здесь успехи очень скромные. Например, возьмем автомобилестроение: есть небольшой сборочный цех китайских авто в Калининграде, на "Москвиче" - уровень вообще ни о чем, машины разбирают и собирают снова, под Петербургом – тоже сборочный цех на бывшем заводе Hyundai. Все остальные автомобильные заводы встали, а продукцию стали завозить из-за границы, просто из Китая, как правило, с ухудшением качества. Есть ряд программ, которые вообще не импортозаместили: вся авиационная промышленность работала в кооперации с иностранцами, и это абсолютно нормально. Сейчас там пока ничего не происходит, и шансов, что начнут что-то производить в разумных объемах – ноль. То же самое по скоростным поездам, которые Siemens собирал совместно с "Северсталью". Я думаю, здесь успехов быть не может.
В феврале 2025 года совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин пожаловался, что импортозамещения в области производства сельхозтехники не произошло: импорт из Германии, США и Южной Кореи сменили поставки из Китая и Индии. При этом сроки поставок выросли с двух недель до двух месяцев, а цены увеличились примерно на 15%. В России, по словам Бабкина, запчасти тоже есть, однако они обходятся на 40% дороже индийских и китайских. "Так построена налоговая система, что электричество в России, металл, налоги на 30% выше и дороже, чем в других странах, чем на Западе, чем в Китае. Кредитные ставки у нас во много раз выше. Отсталость экономической политики подрывает конкурентоспособность нашего сельского хозяйства и нашей всей промышленности", - сказал глава компании.
Перед войной в Украине Россия была одним из главных мировых импортеров техники для угольной промышленности (например, самоходных экскаваторов и врубовых машин для проходчиков). Фактически всю технику заказывали в западных странах, Китае или Южной Кореи за исключением самосвалов, часть которых поставляла Беларусь. Потеряв поставки, угольщики перешли на параллельный импорт и поставки из Китая. Есть предложения и внутри России – например, кемеровские предприятия штучно покупают экскаваторы ЭКГ-20 "Уралмашзавода", однако полностью закрыть потребности отрасли российские производители не в состоянии.
"Китай не будет подталкивать индустриальное развитие России"
По данным исследования "Новой Газеты-Европа", доля отечественной продукции в сфере производства исходного сырья для медицинских препаратов в 2023 году составила 24,7%. Большая часть сложных фармакологических субстанций по-прежнему производится за границей – в Польше, Индии и Китае. При этом есть случаи, когда российские компании под видом ингредиентов завозят исходные субстанции, выдавая их за отечественные.
Похожая ситуация в сфере производства электроники: Минпромторг поставил задачу достичь доли отечественной продукции 70% к 2030 году, однако аудиторская компания Kept полагает, что через девять лет доля российской электроники вырастет вдвое и достигнет лишь 45%. При этом сейчас производители завозят комплектующие из Китая, выдавая их за российские. В сфере производства лекарств и электроники схожие проблемы: импортного оборудования и кадров, которые работали бы его обслуживали.
– Сейчас появился целый жанр фейков, – говорит Владислав Иноземцев. – Когда вы получаете деньги на изготовление процессора, сотового телефона, станка и так далее, деньги осваиваете, а потом оказывается, что вы плохо замазали китайскую бирку. И здесь, на мой взгляд, нет злого умысла. Просто сейчас государство ставит невыполнимые задачи по импортозамещению. Такого просто не может быть. Вот когда мы говорим про софт (программное обеспечение), то это то, что можно делать в какой угодно стране. Между производителями всегда будет конкуренция, где бы ни находился программист. В индустриальной сфере все иначе: если вы строите завод по производству агрегатов, вам нужно еще два завода смежных для производства подшипников, нужны инженеры. Поэтому мы просто не можем сделать, например, самолет. Такие производственные цепочки строятся десятилетиями.
В России для создания конкурентной промышленности нужны солидные инвестиции, которые не могут окупиться на внутреннем рынке, считает экономист Вячеслав Ширяев.
– Нужно вкладывать очень большие деньги в научно-исследовательские, конструкторские разработки, в опытные образцы, в отладку производства, в формирование производственных линий и так далее. А в условиях, когда вы работаете на очень маленький рынок, вы не имеете возможности вернуть крупные вложения. Соответственно, вы начинаете делать на коленке, по сути. Даже если это какое-то сложное оборудование или сложный товар, вы все равно сокращаете расходы по сравнению с глобальными игроками, которых вы импортозамещаете. И вы не получаете того результата, который вас удовлетворит. Поэтому все попытки играть в импортозамещении на рынке, который всего 2% от мирового, бессмысленны. Можно быть успешными в отдельных отраслях каких-то. Ну, например, Россия долго сохраняла хорошие позиции по атомной энергетике.
Единственное импортозамещение, которое успешно может быть на маленьком рынке – это дешевый труд. Когда у вас очень простой продукт, который в целом завязан только на стоимость рабочей силы. Ну, например, если труд российского крестьянина дешевле, чем американского фермера, то можно килограмм картошки вырастить, в принципе, дешевле. Но, опять же, там труд уже настолько технологичен и механизирован на уровне искусственного интеллекта практически, где за поливом следят роботы и машины, которые сами определяют норму полива, впрыскивают нужное количество влаги и так далее. Поэтому в России даже фактор дешевого труда не работает.
В 2025 году в России прошло несколько совещаний и круглых столов, где подводили итоги импортозамещения за последние три года. Представители бизнеса, как правило, говорили, что в стране нужно создавать проекты, востребованные не только на внутреннем рынке, но и за границей. В мае 2025 года Владимир Путин, обращаясь к бизнес-элите, заявил, что российская продукция "уверенно конкурирует за рубежом".
Эксперты, в самом деле, отмечают некоторые успехи российских производителей-экспортеров, но речь идет, скорее, о сырьевых поставках: например, в 2023 году Россия впервые стала нетто-экспортером мяса, то есть общая стоимость экспорта превысила стоимость импорта. В 2025 году Россия также увеличила экспорт в Китай запчастей для погрузочной техники, комплектующих для электропультов, нагревательных элементов. Однако речь идет о тоннах или десятках тонн, тогда как дизельное топливо или каменный уголь Россия экспортирует миллионами тонн.
– Все эти разговоры о конкуренции на мировом рынке – ерунда, – говорит Владислав Иноземцев. – Я вообще не вижу, чтобы что-то вывозили, кроме сырья, максимум – удобрений. А говорить можно все, что угодно. Выход на мировые рынки – вообще отдельная тема. Я еще в "десятые" и "нулевые" удивлялся подходу в России. Любой индустриальный скачок основан на том, что ты стремишься на иностранные рынки. На своем рынке ты имеешь преимущество (например, есть какой-нибудь утилизационный сбор), а за границей – пытаешься конкурировать и смотришь, что получится. Это типичная модель для всех азиатских стран – от Японии до Вьетнама. Но в России ничего на экспорт никогда не производили, сейчас точно так же.
– Что касается импортозамещения, то единственное успешное начинание было в России в области автомобилестроения. Я даже привожу его в пример, когда выступаю в Америке. В "нулевые" Россия сказала западным компаниям: приходите к нам сейчас, потому что условно через три года мы начнем вводить пошлины и давить импорт. Западные компании пришли и стали собирать автомобили в России, пока их не выгнали. Но следующий шаг за этим должен был быть в том, что когда у вас построят 10 заводов, и на них работают 100 тысяч ваших рабочих, вы начинаете строить свой завод. Потом переманиваете инженеров и работаете сами, без западных компаний. Так появляется ваш автомобиль, вы импортозаместились. Это абсолютно нормальный метод – так делали китайцы. То есть, чтобы заместить импорт, ты должен сначала учиться. Но для России этот путь оказался в итоге слишком долгим: все хотят импортозамещение за три дня. Да и никто уже сейчас к нам не пойдет. Тут еще важен такой момент, что к нам пришли именно западные компании. Для Запада 30 последних лет нормально заниматься аутсорсингом и строить заводы за границей. Это постиндустриальная страна. А Китай, которого мы считаем сейчас главным партнером, вообще нигде за границей не построил ни одного крупного предприятия. Это индустриальная страна, которая строит внутри себя. Они никогда не будут подталкивать индустриальное развитие другой страны – в данном случае России. Поэтому в начале века вы вошли в правильную дверь, а сейчас стучимся в ту, которая всегда закрыта.